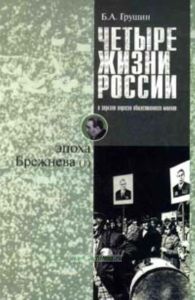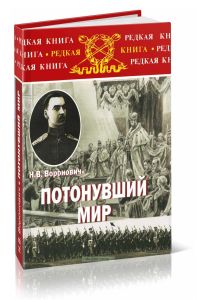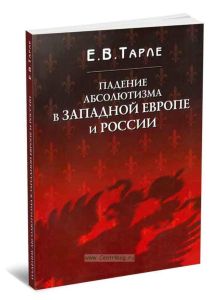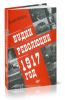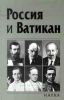- Артикул:00202393
- Автор: Грушин Б.А.
- ISBN: 5-89826-186-9
- Обложка: Твердый переплет
- Издательство: Прогресс-Традиция (все книги издательства)
- Город: Москва
- Страниц: 448
- Год: 2003
Четыре жизни России. Жизнь 2-ая: Эпоха Брежнева (часть 1)
Эта книга - вторая в серии изданий, в которых автор предпринимает попытку реконструировать (в том числе в динамике) некоторые значимые свойства менталитета российского народа, проливающие свет на сакраментальные вопросы современности: кто мы? ОТКУДА МЫ? И КУДА мы? В качестве общей эмпирической базы "четверокнижия" выступают результаты более чем 250 социологических исследований, проведенных в стране за последние 40 лет минувшего столетия. В настоящей книге -речь о сознании масс в эпоху Брежнева. В целях более полного ознакомления читателей с, как правило, ранее не публиковавшимися данными она разбита на две части: в первой анализируются итоги опросов населения, реализованных Институтом общественного мнения "Комсомольской правды" в 1966-1967 гг. и Центром изучения общественного мнения Института конкретных социальных исследований АН СССР в 1971 г.; во второй - результаты исследований, выполненных в рамках генерального проекта "Общественное мнение", начатых в 1967 г. в Институте философии АН СССР и завершенных в 1974 г. в ИКСИ АН СССР.
Издание предназначено для широкого круга читателей - всех тех, кого волнует будущее России.
Введение
Предисловие к 2-й книге
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕДЕЛЫ ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В СССР В ПОРУ ЗАСТОЯ
Краткое изложение общих целей и предмета исследования
Как должно быть ясно читателю из названия предлагаемого сочинения, настоящий, 2-й, его том является продолжением предыдущего и, строго говоря, не может претендовать на самостоятельное, автономное существование. Затеянное автором "четверокнижие" - единое целое, с общими задачами и тезаурусом, единой структурой и манерой изложения, и потому в предисловии к каждому тому, конечно же, немыслимо повторять все то, что было сказано в самом начале пути - о целях работы, ее формальных и содержательных особенностях, условиях и способах реализации и т. п. Вместе с тем автор уверен, что в самом кратком виде изложить общую программу проекта все же не только полезно, но и необходимо, поскольку среди взявших в руки "Эпоху Брежнева" могут оказаться как те, кто запамятовал описание этой программы в "Эпохе Хрущева", так и (особенно) те, кто вообще в глаза не видел предыдущей книги.
Первое и самое главное, на что хотелось бы в этой связи обратить внимание старых и новых читателей "Четырех жизней России", это специфика избранного автором предмета рассмотрения, позволяющая говорить об исследовании, в сущности не имеющем аналогов ни в отечественной, ни в зарубежной литературе. Дело в том, что, обратившись к материалам многочисленных опросов общественного мнения, проведенных им и/или под его руководством в стране за последние 40 лет XX столетия автор отказался от привычного анализа результатов этих опросов, при котором рассматривается лишь "точечное" содержание ответов респондентов. Вместо этого он поставил своей задачей реконструировать некоторые базовые, в 99 случаях из ста остающиеся за кадром характеристики целостного менталитета опрашиваемых, а стало быть, и всего представляемого ими советского/российского народа.
Это значит, что в предлагаемом сочинении выяснению подлежало не то, что люди думали по поводу тех или иных конкретных обсуждавшихся сюжетов, а то, КАК, собственно, они думали или ПОЧЕМУ они думали именно так, а не иначе. При этом при описании данного более чем нетрадиционного угла зрения на вещи в предисловии ко всему изданию говорилось:
Известно, что общественное мнение является зеркалом жизни общества прежде всего в том смысле, что, высказываясь по поводу тех или иных фактов действительности (бытия и сознания), оно, при прочих равных обстоятельствах, дает возможность судить о самих этих фактах и самой этой действительности - говорить о том, каковы в обществе экономика, политика, культура, быт, мораль и прочее, выяснять, с какими проблемами общество сталкивается, как их решает, и т. д. Именно это направление анализа итогов опросов безраздельно господствует в практике отечественных и зарубежных поллстеров.
Вместе с тем общественное мнение отражает жизнь общества не только указанным прямым образом, но и, так сказать, косвенно - на уровне свойств самого массового сознания, характеризующих его в тот или иной момент времени. В этом случае мы также имеем дело с зеркалом, но это зеркало особого рода. В нем отражаются уже не те или иные конкретные, частные, меняющиеся от опроса к опросу сюжеты действительности, но некие базовые, более широкие и более глубокие характеристики общества, проявляющиеся в его сознании, как сказал бы Гегель, в "снятом" виде.
Понятно, что включенная в проект обильная эмпирическая информация... дает немалые возможности увидеть в зеркале первого рода многочисленные характеристики советско-российского общества в рассматриваемые эпохи и, стало быть, судить о нем как таковом. Именно таким способом, скорее всего, и будет оценивать предлагаемую информацию умеющий обращаться с нею читатель. Что же касается автора, то он как раз в своих комментариях решил отступить от привычной практики и избрать второй из названных путей анализа, несмотря на все ожидавшиеся на нем сложности...
...Проект "Четыре жизни России" затевался с целью посильного приумножения знаний российского общества о самом себе, в том числе освобождения общественного сознания от многочисленных мифов и иллюзий, раскрытия неразгаданных тайн современной России. Так вот, по давнишнему убеждению автора, главная из этих тайн была и продолжает быть связана как раз с тем, что философы недавнего прошлого называли расплывчатым термином "народный дух", а социологи и социальные психологи современности обозначают более точно словами "национальный менталитет", "национальныйхарактер", "массовыеустановки, системы ценностей, символы веры".
Известно, что дела в нынешней России идут более чем неважно. Подавляющее большинство аналитиков, особенно из рядов политологов и журналистов, видят причины этого в бездарности и недееспособности власти, всесилии мафии, антипатриотизме "новых русских". И все это, бесспорно, имеет место. Однако в тени при этом остается главный барьер, препятствующий непрерывному и ощутимому продвижению вперед, - неготовность самого народа, широких народных масс к восприятию и поддержке происходящих цивилизационных изменений. Отсюда - выбор названного предмета рассмотрения, задача последовательного и многостороннего анализа массового сознания, проявлявшегося на протяжении нескольких десятилетий в общественном мнении. Ведь, по предположению автора, такой анализ в случае успеха мог бы, как никакие другие социологические исследования, приблизить нас к раскрытию действительного содержания названного феномена - и как такового... и (в плане ответа) на более широкие, сакраментальные вопросы : Кто мы?, Откуда мы? и Куда мы?...
Из сказанного следует - и это должен четко представлять себе читатель, - что в предлагаемом "четверокнижии" речь идет, во-первых, не собственно о советско-российском обществе соответствующих периодов его истории, а лишь об одной из сфер жизни этого общества - его сознании. Это значит, что вне поля нашего анализа, в сущности, целиком остаются и экономика, и политика, и социальные отношения, и многое-многое другое, не относящееся напрямую к сфере духа, т. е. к тем образованиям этой сферы, которые именуются чувствами, идеями, представлениями, или, в других терминах, эмоциями, знаниями, нормами, верованиями, мнениями и т. д.2;
во-вторых, не о сознании рассматриваемого общества в целом, т. е. не о всяком, не о любом сознании, присущем ему, но лишь об одном определенном сегменте этого сознания, а именно сознании массовом. Это значит, что за бортом разговора, в сущности, остаются не только духовная жизнь населявших общество личностей и групп, но и те огромные пласты духовной жизни социума в целом, которые относятся к разряду институционализированного общественного сознания и профессионально производятся соответствующими демиургами в форме политической идеологии и права, науки и морали, философии и теологии, литературы и искусства1;
наконец, не о всех видах массового сознания, существовавших в рассматриваемом обществе, а лишь о тех из них, которые совпадают с вербально выраженным общественным мнением и прежде всего с теми высказываниями масс, которые инспирировались исследовательским интересом, т. е. вызывались к жизни с помощью разного рода опросов населения1. Это значит, что за рамками предпринятого анализа целиком остаются и общественное мнение, выражавшееся не вербально, а в актах деятельностного поведения людей2, и те многочисленные формы существования массового сознания, которые по своей природе не имеют к общественному мнению вообще никакого отношения.
Кроме того, новым и старым читателям "Четырех жизней России" необходимо иметь в виду еще один важнейший пункт программы проекта - то, что выделенный в качестве непосредственного предмета анализа менталитет россиян рассматривается в исследовании хоть и в широком, но тем не менее все же далеко не полном, ограниченном объеме. Говоря конкретнее - сквозь призму лишь десяти свойств и способностей массового сознания, из числа тех, что на практике чаще всего фигурируют в опросах населения и позволяют достаточно выпукло представить общество не только в каждой из рассматриваемых эпох, но и в общей исторической динамике, по мере перехода от эпохи к эпохе.
Чтобы добиться равного понимания этой стороны дела читателями всех четырех томов, процитируем (с некоторыми уточнениями и сокращениями) еще один фрагмент общего предисловия к изданию, на этот раз тот, в котором дается описание отобранных характеристик сознания масс с раскрытием их предметного содержания и способов фиксирования в процессе эмпирического анализа результатов опросов:
...[Итак] к числу таких [интересующих анализ] характеристик менталитета масс автор отнес следующие десять:
1. предметный ряд массового сознания, или диапазон интересов населения к различным аспектам жизни мира, описываемый в терминах "содержания интересов" и "локальности интересов", где под первым понимаются различные сферы жизнедеятельности общества, а под вторым - пространственные границы предметов, к которым массы проявляют большее или меньшее внимание. В эмпирических исследованиях фиксирование этой стороны дела, как правило, опирается на номинальные шкалы типа "экономика - политика - культура - идеология -международная жизнь..." и "мир - страна -регион - город -улица - семья..." и осуществляется путем измерения меры включенности публики в соответствующий предметный сегмент жизни социума, степени ее причастности к этому сегменту, готовности участвовать в обсуждении связанной с ним проблематики;
2. морфологический состав массового сознания, или когнитивные способности населения, отмечающие общий уровень понимания людьми действительности и совпадающие с определенными комбинациями их мыслительной и психологической деятельности. В эмпирических исследованиях эта сторона дела фиксируется на уровне лингво-психологического и семантического анализа совокупного текста массового сознания, путем определения удельных весов его основных составляющих: разного рода иррациональных представлений; собственно позитивных (рациональных) знаний, добытых людьми на основе их личного, непосредственного опыта или заимствованных "от других" - из цехов науки, искусства, журналистики; разнообразных элементов религиозной веры и светской мифологии; наконец, разнообразных эмоциональных образований (чувств надежды, страха и др.). При этом первостепенное значение, как правило, придается двум направлениям оценки: соотношению в массовом сознании его рефлективных и нерефлективных форм и определению общей меры критичности, самостоятельности мышления масс, т. е. соотношению в нем так называемых официального и неофициального сознаний;
3. уровень знаний населения в той или иной (выступающей в качестве объекта исследования) предметной области, мера знакомства людей с соответствующими предметами обсуждения. В эмпирических исследованиях эта сторона дела описывается главным образом в терминах "информированности" и "компетентности" масс и измеряется с помощью двух показателей -объема и качества информации, которой располагают массы; при этом первый из названных показателей опирается на континуальные шкалы типа "информация есть - информации нет " "информации много - информации мало ", а второй - на процедуру сопоставления суждений масс с неким объективным знанием (некоей объективной истиной), выступающим в качестве одного или нескольких эталонных суждений. Кроме того, при оценке данного элемента массового сознания нередко используются и такие (дополнительные) показатели, как потребность масс в соответствующей информации, а также используемые ими источники информации1;
4. способность суждения населения, совпадающая с, так сказать, инструментальной, или технологической вооруженностью массового сознания и проявляющая себя в двух ипостасях: во-первых, в умении людей рефлектировать по поводу фактов и событий действительности (на базе имеющихся у них знаний и в границах наличной компетенции) и, во-вторых, в их умении артикулировать, передавать в языке результаты собственной рефлексии. При очевидной близости к предыдущей составляющей массового сознания описываемая теперь отнюдь не совпадает с ней, поскольку, как известно, знать и даже говорить о чем-либо еще вовсе не значит умело судить об этом "что-либо" и тем более адекватно выражать "для других" свое понимание. В эмпирических исследованиях данная характеристика фиксируется на уровне логико-лингвистического анализа отдельных фрагментов массового сознания, совпадающих с ответами респондентов на вопросы полевых документов, путем качественной оценки того, насколько люди владеют приемами логического мышления - анализа, синтеза, доказательства, а также меры их затруднений в процессе языкового оформления выражаемых мыслей...;
5. ценностные ориентации населения, совпадающие с фундаментальными (общечеловеческими) и оперативными (ситуативными) предпочтениями, касающимися условий и форм жизнедеятельности масс и составляющими ту общую систему координат, в рамках которой и исходя из которой формируются предметные интересы людей и их "стартовые" позиции по отношению к различным фактам и событиям действительности. В эмпирических исследованиях фиксирование этой стороны дела опирается на номинальные шкалы типа "жизнь - здоровье - семья - материальное благополучие - профессиональная карьера -образование - социальная активность..." и осуществляется путем измерения объема внимания респондентов к рассматриваемым ценностям и определения рангового положения последних на общей шкале;
6. отношение населения к собственному обществу - его социально-политическому устройству, представленному "властью в целом", а также основными государственными и гражданскими институтами, фигурами ведущих национальных лидеров и т. д. В эмпирических исследованиях эта сторона дела описывается в терминах "политической лояльности- нелояльности" или "конформизма - нонконформизма" масс и измеряется с помощью разнообразных прямых вопросов и множества косвенных показателей, фиксирующих разной степени поддержку массами существующего строя, меру их доверия к государственным и общественным институтам, силу их симпатий к "вождям" и т. д.;
7. общее эмоционально-психологическое самочувствие населения, оцениваемое в терминах "настроений", "переживаний" и т. п. Совпадающая с рядом самостоятельных морфологических образований в составе сознания масс (в частности, с упомянутыми выше чувствами надежды, страха и т. п.), эта характеристика проявляет себя также в виде некоего фона, на котором происходит возникновение всех остальных морфем сознания (предрассудков, знаний и т. д.) и который соответствующим образом окрашивает всю картину общественного мнения. В эмпирических исследованиях эта сторона дела фиксируется преимущественно с помощью прямых вопросов, рассчитанных на самооценки респондентами их психологического тонуса, а также путем лингво-психологического анализа используемой в ответах лексики. Из весьма широкого набора входящих сюда элементов сознания в ходе дальнейшего анализа полученных эмпирических данных основное внимание будет уделено двум: а) общему уровню довольства/недовольства людей жизнью (описываемому в том числе в терминах "энтузиазма - паники", "спокойствия - тревожности") и б) их ожиданиям относительно ближайшего и удаленного будущего (описываемым в терминах "оптимизма - пессимизма");
8.реактивные способности населения, совпадающие с разнообразными типами реакций людей на факты и события объективной действительности, включая вопросы, которые задаются им в ходе опросов общественного мнения. В эмпирических исследованиях эта сторона дела описывается главным образом в терминах "активности - пассивности" и "характера реакций" масс и измеряется соответственно с помощью таких показателей, как объем актов деятелъностного и вербального поведения людей и те или иные качественные характеристики этих актов; при этом первый из названных показателей опирается на континуальные шкалы типа "активность высокая - активность низкая", а вторые - на разнообразные процедуры оценки соответствующих характеристик. В ходе дальнейшего анализа полученных эмпирических данных основное внимание будет уделено двум таким характеристикам: а) проявлениям толерантности/агрессивности (взвешенности/экстремизма) и б) отношению к "новому" и "старому" (готовности/неготовности к переменам);
9.общая структура массового сознания, оцениваемая по критерию его содержательной дифференциации при обсуждении населением тех или иных проблем. В эмпирических исследованиях эта сторона дела описывается в терминах "монизма - плюрализма" общественного мнения и фиксируется на уровне анализа как фрагментов массового сознания, совпадающих с ответами респондентов на отдельные вопросы полевых документов, так и совокупного текста массового сознания, обнаруживаемого в исследовании в целом. В первом случае речь идет об измерении меры единодушия публики в тех или иных предметных сферах, во втором - об определении относительной значимости (роли) различных социально-демографических и иных характеристик респондентов в качестве факторов, дифференцирующих сознание масс. При этом первая из названных задач решается с помощью двух показателей: количества позиций, разделяемых по соответствующему поводу ансамблем опрошенных в целом, и объема групп, демонстрирующих одну и ту же позицию; вторая - с помощью разного рода коэффициентов, отмечающих величину разрывов в позициях различных групп одного класса (половых, возрастных, по роду занятий и т. п.);
10.общая структура массового сознания, оцениваемая по критерию его целостности/разорванности в границах обсуждения населением тех или иных проблем. В эмпирических исследованиях эта сторона дела, как и предыдущая, фиксируется на уровне анализа как фрагментов массового сознания, совпадающих с ответами респондентов на отдельные вопросы полевых документов, так и совокупного текста массового сознания, обнаруживаемого в исследовании в целом. При этом в обоих случаях речь идет о выявлении фактов и характера (разных по напряжению и знаку, латентных и явных) эластичных отношений или, напротив, противоречий и конфликтов между так называемыми концептами сознания, т. е. некими обобщенными - на уровне мировоззрения - представлениями о мире, которых придерживаются разные массы в составе опрошенных или опрошенные в целом, включая оценку устойчивости этих концептов путем измерения степени уверенности/неуверенности людей в высказываемых ими точках зрения1.
Как уже было сказано, перечисленные характеристики менталитета масс - при всей их относительной многочисленности, - отличались все же очевидной неполнотой и явно не исчерпывали всего богатства рассматриваемого предмета. К тому же они проявлялись в результатах опросов населения с неодинаковой силой, с разной степенью четкости и тем более с неодинаковой частотой, т. е. присутствовали - во всем своем наборе - далеко не в каждом исследовании общественного мнения.
И тем не менее хотелось бы, чтобы читатель понимал: избранный автором "жесткий" методологический ход с десятиячеечным "ситом категорий", через которое надлежало просеивать весь полученный материал, сопровождался в исследовании гораздо большим количеством плюсов, нежели минусов. Помимо всего прочего, он обеспечивал необходимую терминологическую четкость в описании соответствующих феноменов сознания, а также задавал строгую систему координат, в рамках которой становились возможными сопоставление и сравнительные оценки всех видов разношерстной информации. Главное же - при рассмотрении полученных эмпирических данных (и в рамках отдельных исследований, и по их совокупности в границах каждой эпохи в целом) он подчинял анализ некоему единому и многообещающему по его эвристическим потенциям алгоритму, требуя ответа на вопрос: как в тех и иных случаях повели себя, как проявили, как выглядели в свете избранных характеристик их менталитета россияне? Благодаря отмеченной жесткости "сита", этот алгоритм позволял сохранить в анализе верность принципу эмпиризма, т. е. избегать разного рода отсебятины, пустопорожних суждений о предмете, базирующихся не на его фактических, опытным путем зафиксированных свойствах, а на сомнительных впечатлениях, легковесных фантазиях и прямых, грубых домыслах...
И наконец, в заключение - еще одна, третья и последняя, цитата из общего предисловия к четырехтомнику, в которой обращается внимание на нетрадиционный способ подачи материала в книгах, включая специфическую форму общения автора с читателем, а читателя с текстом:
Как правило, в подобных изданиях основные количественные результаты исследований (всевозможная цифирь, сгруппированная в таблицы и графики) даются в контексте и по ходу содержательного анализа полученных данных. В нашем же случае "борщ" идет отдельно, а "мухи" отдельно. При этом центральное место в публикации занимает как раз сам "борщ", т. е. не анализ итогов исследований, не комментарии к ним, но сами эти итоги как таковые. А для того, чтобы читатель-непрофессионал мог легко разобраться в них, весь количественный материал оформляется в максимально прозрачном виде - с помощью стандартизованного табличного дизайна, с набором всех необходимых указаний, пояснений и т. д.
Кроме того, помимо количественных, в издании во многих случаях приводятся и качественные результаты исследований - фрагменты оригинальных (не подвергшихся смысловому редактированию) ответов респондентов на открытые вопросы исследователей, представляющие типичные образчики сознания людей в каждой из рассматриваемых эпох.
Что же касается собственно комментариев к публикуемым данным, то в них автор стремился не столько представить свое видение предмета (что характерно для всех без исключения изданий такого рода), сколько привлечь внимание читателя к наиболее интересным из зафиксированных фактов, обнажить возникающие здесь сюжеты, заострить проблемы и тем самым стимулировать размышления самого читателя над представленным материалом. В этом смысле во многих местах на полях рукописи вполне можно было бы поместить приснопамятный рефрен Штирлица: "Информация к размышлению... "1
Переходя теперь к основному сюжету настоящего предисловия -общей характеристике исследований общественного мнения, состоявшихся в эпоху Брежнева и включенных во 2-ю книгу, - сообщим прежде всего, что речь пойдет о продукции трех возглавлявшихся автором и последовательно сменивших друг друга исследовательских центров: Института общественного мнения "Комсомольской правды" (1966-1967), Центра изучения общественного мнения Института конкретных социальных исследований АН СССР (1969--1972) и так называемого генерального проекта "Общественное мнение", начатого в 1967 г. в Институте философии АН СССР и завершенного в 1974 г. в ИКСИ АН СССР.
Соответственно вся включенная в книгу информация разбита на три раздела. При этом объем информации оказался столь большим - почти вдвое превышавшим объем 1-й книги по количеству страниц (без малого 1000 против 624) и многократно по числу представляемых исследований (свыше 70 против 13), - что движимый стремлением как можно полнее познакомить читателя с большей частью никогда не публиковавшихся данных, автор решил пойти на расчленение 2-й книги на две части. В первой из них публикуются материалы ИОМ "КП" и ЦИОМ ИКСИ АН СССР, а во второй - проекта "Общественное мнение".
Об истории возникновения и начальном периоде деятельности Института общественного мнения "Комсомольской правды", созданного в пору хрущевской оттепели, было рассказано в 1-м томе "четверо-книжия". Теперь настало время рассказать о двух последних годах жизни этого Института, пришедшихся на эпоху брежневского застоя.
Начали за здравие, а кончили за упокой...
Уже при самом поверхностном взгляде на вещи легко обнаружить, что деятельность ИОМ "КП" на втором, заключительном этапе его существования заметно отличалась от той, что была характерна для него в начале пути. Прежде всего на уровне чисто формальных количественных показателей, касающихся объемов произведенной информации. Ведь если за первые почти четыре с половиной года (май 1960- сентябрь 1964 г.) Институт провел 13 опросов, то за последние три с небольшим (октябрь 1964 - декабрь 1967 г.) - 14, а за последние два - аж 11 . Вместе с тем подобный значительный рост интенсивности исследовательской деятельности не находил адекватного отражения в публикациях результатов опросов на страницах газеты. Совсем наоборот: в рассматриваемый период количество таких публикаций сократилось в сравнении с эпохой Хрущева более чем вдвое и равнялось всего 29 газетным материалам против 58 в 1960-1964 гг.2
Главными, однако, были отличия качественные - связанные с содержанием, методологией и организационным (в широком смысле слова) обеспечением проводившихся исследований.
Имея в виду первый из этих аспектов, можно сказать, что существенным изменениям подверглась прежде всего сама тематика опросов - в направлении углубления обсуждаемых проблем и резкого сокращения в ней чисто пропагандистских сюжетов. Как было видно в 1-й книге, на начальном этапе работы ИОМ "КП" из десяти рассматривавшихся в опросах предметов, можно сказать, полной свободой от пропагандистской составляющей отличались лишь два последних (досуг горожан и маркетинг бытовой аудио- и видеоаппаратуры); все же остальные в той или иной, большей или меньшей мере откровенно несли в себе ее заряд, и при этом гораздо чаще эта мера была явно большей, нежели меньшей (ср. опросы "Удастся ли человечеству предотвратить войну?", "Динамика уровня жизни населения", "Что собой представляет нынешняя молодежь?", "Во имя чего вы учитесь?", "На Марс - с чем?").
Теперь же, как свидетельствует Приложение 1, напротив, десять из двенадцати обсуждавшихся предметов лежали целиком вне интересов собственно пропаганды, т. е. были отобраны для работы в соответствии с качественно иными, а именно преимущественно исследовательскими целями. Говоря более конкретно, в большинстве исследований речь шла теперь либо о критическом анализе обнаружившихся минусов общественного развития (ср. опросы "Комсомольцы о комсомоле", а также "Детская и подростковая преступность"), либо о поисках решений отдельных злободневных народнохозяйственных проблем (ср. опросы "Хорошо ли Вас обслуживают?", "Свободное время старшеклассников", "Время отпусков - как лучше провести его?"), либо о гражданской экспертизе (это nota bene!) новых социально-экономических и общественно-политических практик в жизни страны (ср. опросы "Судьба Государственного гимна СССР", "Проблема выборности на производстве", "Население и экономическая реформа"), либо о решении чисто социологических задач, связанных с изучением газетой своей аудитории (ср. опросы "Читатель о себе и о газете" и "Письма в "Комсомольскую правду" и их авторы").
Вместе с тем, обращение ИОМ "КП" к нового типа проблематике диктовалось не только исследовательскими задачами. Под этим лежал и отчетливо выраженный гражданский интерес, связанный с намерением Института "приучать" общество к изучению общественного мнения как к определенной - политической и информационной - норме публичной жизни страны. Причем "приучать" не только на уровне собственно читателей газеты, но и на уровне населения в целом, не только на полюсе масс, но и на полюсе разного рода социальных институтов, в том числе управляющих жизнью общества. Последнее обстоятельство представлялось особенно важным и нашло свое отражение, во-первых, в уже привычной для ИОМ "КП" практике обращения к руководителям министерств и ведомств с просьбой прокомментировать результаты некоторых опросов1, а главное - в кардинальном увеличении количества так называемых заказных исследований. Ведь если на первом этапе своей деятельности ИОМ "КП" выполнял такого рода исследование лишь однажды (опрос "Проектируем сами", заказанный ВНИИ технической эстетики), то на заключительном этапе - уже в шести случаях из 14! При этом в качестве клиентов, полностью или частично оплативших исследования, в 1965-1967 гг. фигурировали Исполком Моссовета (заказавший опрос московских школьников-старшеклассников), ВНИИ типового и экспериментального проектирования лечебно-оздоровительных и санаторно-курортных зданий Госстроя СССР (выступивший инициатором серии исследований по теме "Время отпусков - как лучше провести его?"), МВД СССР (занявшееся изучением детской и подростковой преступности) и - даже! - Секретариат ЦК КПСС, посчитавший необходимым (перед принятием ответственного решения об изменении музыки и слов Государственного гимна СССР) выяснить мнение народа по этому поводу.
Понятно, что реализация всей этой новой, ориентированной преимущественно не на журналистику, а на науку программы исследований предполагала отработку и использование и более основательной методологической базы проводимых опросов, в том числе серьезное усиление технико-методического оснащения последних.
Это, второе, важное направление изменений в деятельности ИОМ "КП", приходящейся на эпоху Брежнева, проявляло себя прежде всего в более тщательной, чем раньше, работе с моделями выборок. В частности - в более аккуратной оценке величин и характера отклонений состава респондентов от объективной структуры населения страны в случае нерепрезентативных газетных опросов. Главное же - в значительном увеличении количества исследований, базировавшихся на конструировании представительных общенациональных выборок. Ведь если в эпоху Хрущева таких исследований было лишь два, то теперь уже пять, причем четыре из них (опросы о комсомоле, способах проведения отпусков, государственном гимне и производственной демократии) - с весьма высоким качеством выборочных совокупностей.
Много внимания уделялось и совершенствованию инструментов сбора и обработки полевой информации, а также анализа итоговых данных. В первом из этих случаев повышение надежности результатов достигалось преимущественно путем улучшения текстов полевых документов (в т. ч. резкого сокращения в них удельного веса открытых вопросов) и более основательной подготовки исполнителей полевых работ1; во втором - путем практически полного отказа от операций ручного счета и его замены машинной обработкой полученной информации; в третьем - путем осуществления гораздо более глубокого, чем прежде, анализа произведенных данных, как в смысле большей детализации выявленного положения вещей (перехода от разговора "в общем и целом" к дифференцированной оценке позиций отдельных групп населения), так и в смысле большей строгости языка описания действительности (перехода от былой цветистой публицистики, адресованной широкой читательской аудитории, к сухой лексике деловых отчетов, ориентированных преимущественно на сводки выводов и рекомендаций для соответствующей клиентуры, а то и собственно научных текстов, оформляемых исследователями в качестве их кандидатских диссертаций по филологии или философии2).
Наконец, весьма существенным преобразованиям подверглась и организационная сторона деятельности ИОМ "КП", прежде всего та, что была связана с его официальным статусом. Возникнув в "недрах" редакции в качестве всего лишь добровольных (безвозмездно и сверх основных должностных обязанностей выполняемых) занятий сотрудников отдела пропаганды газеты, Институт аж до начала 1966 г. оставался тем же чисто номинальным образованием, масштабы деятельности которого были прямой производной от масштабов личного интереса к этой деятельности занимающихся ею людей. До поры до времени, особенно пока автор находился на посту члена редколлегии, редактора "КП" по отделу пропаганды, этот интерес, можно сказать, бил через край. Когда же ситуация поменялась и оказавшийся в длительной заграничной командировке1 научный руководитель ИОМа, понятно, не мог уже участвовать в каждодневной работе Института, интерес коллектива редакции к опросам общественного мнения стал заметно падать, если не сходить на нет. Достаточно сказать, что в 1964 г. ИОМ провел всего три опроса (причем все три - газетных), а в 1965 г. и того меньше - лишь один (1000 школьников в г. Москве).
Не исключено, что в скором времени вся эта деятельность вообще почила бы в бозе, если бы 3 января 1966 г. автор не вернулся из Праги в Москву и не предложил редколлегии "КП" принципиально новую модель функционирования ИОМа, предусматривавшую резкую активизацию опросов как читателей газеты, так и всего населения страны. В предельно кратком виде суть этой модели сводилась к двум вещам: во-первых, к конституированию ИОМ "КП" в качестве самостоятельного структурного подразделения (отдела) редакции и, во-вторых, к различению, а точнее, разведению в его деятельности (с закреплением - это nota bene! - за разными исполнителями) двух качественно отличающихся друг от друга блоков функций: а) главных, базовых (научных, социологических), связанных с программированием и проведением собственно опросов общественного мнения и б) вторичных, производных (журналистских), связанных с освещением на страницах газеты различных аспектов деятельности ИОМа, включая подготовку литературных материалов о ходе и результатах проводимых опросов.
Разумеется, реализация этой программы не могла не столкнуться с рядом больших и малых, объективных и субъективных препятствий и трудностей. И пожалуй, главным камнем преткновения здесь была сама решимость "Комсомольской правды" и ЦК ВЛКСМ пойти на этот шаг -шаг далеко не тривиальный и, если угодно, в том числе и политически ответственный: ведь, создавая в тоталитарном государстве (подчеркнем: впервые в практике партийно-идеологической и научной работы) такого типа административно-производственную единицу, они тем самым брали на себя смелость утверждать, что изучение общественного мнения - это особого рода профессиональная деятельность, предполагающая особого же рода институциональное оформление1. Кроме того, часть руководителей и авторитетных "первых перьев" газеты сомневалась в успехе затеи как таковой, полагая, что проведение серьезных исследований, выходящих за рамки собственно журналистских акций, будет вообще не под силу редакции и к тому же потребует немалых средств, которые целесообразнее было бы потратить на разного рода привычные формы работы газеты с читателем. Наконец, свои - технические - трудности возникли и в финансово-бухгалтерском обеспечении деятельности нового подразделения, поскольку многие формы и виды осуществляемых им работ не укладывались в традиционные сметы расходов, принятые в стандартном газетно-издательском деле.
И все же мало помалу, после ряда бурных дискуссий и (в первую очередь) благодаря энергии и твердости тогдашнего главного редактора газеты Б.Д. Панкина, все эти сложности и сомнения были преодолены. В результате уже в феврале 1966 г. ИОМ "КП" превратился из бывшего до того эфемерным в хоть и скромное, но вполне реальное, административно оформленное, т. е. обладающее собственным штатным расписанием и собственным помещением учреждение. Возглавлять его было поручено двум людям: во-первых, автору, который в должности "заведующего отделом - научного руководителя ИОМ "КП"" (на полставки) должен был "отвечать за все", и, во-вторых многоопытному сотруднику редакции Е.Г. Григорьянцу, который в должности "просто" заведующего отделом (на полной ставке) и при функциональном подчинении научному руководителю, нес ответственность за подготовку собственно журналистской продукции Института. Кроме того, в штатах этого отдела-кентавра значились еще три единицы - двух литературных сотрудников (так называемых пишущих журналистов, в обязанности которых входило не только писать самим, но и привлекать к освещению деятельности ИОМ "КП" коллег из других отделов редакции) и секретаря-администратора, которому, помимо выполнения обычных секретарских функций, надлежало руководить многочисленными внештатными техническими работниками (участвовавшими в первичной обработке производимой информации, выполнявшими ручной счет и иные вспомогательные операции), а также вести текущую финансовую документацию. Что же касается собственно научных специалистов - социологов, то они участвовали в работе Института исключительно на внештатной основе, с оплатой труда либо по договорам, либо в форме привычных для редакции авторских гонораров. В 1966-1967 гг. это были преимущественно научные сотрудники и аспиранты недавно созданного и возглавленного автором сектора изучения общественного мнения Института философии АН СССР, в т. ч. кандидат исторических наук В.Я. Нейгольдберг, Я.С. Капелюш, В.В. Сазонов и др.
Вместе с изменением официального статуса ИОМ "КП" существенно изменялись и многие важнейшие параметры самой организации деятельности Института - к примеру, касающиеся разделения труда в процессах сбора, обработки и анализа информации; или создания системы планирования и отчетности; или отработки отношений с внешними учреждениями и организациями (клиентами и партнерами). Но особенно значимой в ряду всех этих нововведений представлялась, пожалуй, пер-вопроходческая деятельность, связанная с решением проблем финансирования проводимых исследований и прежде всего с определением производственных норм и размеров оплаты труда применительно к различным видам полевых и камеральных операций.
В домашнем архиве автора счастливым образом сохранился прелюбопытнейший документ - приложение к Плану деятельности ИОМ "КП" в 1967 г. Он именуется "Ориентировочные расценки работ" и воспроизводится полностью (с незначительными изменениями в первоначальном дизайне) в Приложении 4.
Не исключено, что кое-кому из читателей этот текст может показаться малоинтересной мелочью, не заслуживающей серьезного разговора. Однако такое отношение к нему было бы ошибочным, принимая во внимание, что речь шла о первых шагах становления возрождавшейся в России социологии. Ведь при всей действительной периферийности этой информации она вместе с тем убедительно свидетельствует о чрезвычайно важных вещах. А именно о том, что в практике деятельности ИОМ "КП" в 1966-1967 гг. работа по изучению общественного мнения (а имплицитно и в социологии вообще) оценивалась и утверждалась, во-первых, как деятельность сугубо профессиональная (а не любительская!), т. е. занимающая определенное место в общественном разделении труда, предполагающая наличие у реализующих ее людей особого набора знаний, способностей, умений, и, стало быть, - как деятельность отачиваемая, в принципе не могущая осуществляться на так называемых общественных началах, т. е. любыми, случайными, неподготовленными и неответственно относящимися к делу людьми;
во-вторых, как деятельность преимущественно интеллектуальная (а не техническая!), сводящаяся в конечном счете к производству каждый раз нового знания (информации), и потому - при определении уровня и размеров ее оплаты - могущая и должная быть приравненной к любой аналогичной творческой деятельности, в частности научной и журналистской;
и, в-третьих, как деятельность, относящаяся к разряду массового (а не кустарного, ремесленного!) производства, т.е. выполняемая непрерывно, постоянно, а не раз от разу, с выпуском "поточной", а не "штучной" продукции, и, стало быть, - как деятельность, которую необходимо оценивать не только по ее конечному, но и по многим промежуточным результатам, т. е. которая нуждается в определенной квантифи-кации, в определенном регламенте, во введении тех или иных временных и иных норм по всему полю (на всех основных этапах) ее реализации.
Обобщая все сказанное, еще раз повторим, что на заключительном этапе своей жизнедеятельности Институт общественного мнения "Комсомольской правды" обладал качественно иными характеристиками, нежели в начале пути. По всем без исключения параметрам, кроме имени. И, конечно, главным тут было изменение самого принципиального направления, основного вектора деятельности Института - его превращение из учреждения журналисте ко-научного, с явным тяготением к чисто журналистским формам освоения действительности, в учреждение научно-журналистское, а то и просто научное, полностью свободное от решения тех или иных идеологических задач.
Естественно, случившаяся трансформация была частью более широкого, общего процесса становления на ноги профессиональной социологии в СССР и стала возможной благодаря совокупному действию многих факторов - как объективных, так и субъективных. Однако в данном конкретном случае решающую роль сыграл все же фактор чисто субъективный, и заключался он в неудержимом стремлении руководителя ИОМ "КП" поставить в стране именно собственно научное изучение общественного мнения, создав для этой цели (любой ценой и под какой угодно "крышей") не квази-, а подлинно исследовательскую Службу, работающую на уровне мировых образцов и производящую вполне надежную, строго научную информацию1.
Спонтанно проявившееся уже в пору рождения ИОМ "КП" это стремление оформилось в виде четких долговременных жизненных планов в середине 60-х гг., в пору пребывания автора в Праге, когда в журнале "Проблемы мира и социализма" он сумел провести одно из первых сравнительных международных социологических исследований в странах социализма1; когда им была написана (на основе анализа первоначального опыта работы ИОМ "КП") двухтомная - в 670 страниц! - докторская диссертация "Проблемы методологии исследования общественного мнения"2; и когда - этот момент представляется решающим - в процессе работы над книгой "Разводы в СССР" (по материалам газетного опроса ИОМа о семье) ему случилось обнаружить совершенно новый, еще не описанный наукой социальный феномен - особый тип общественного сознания, названный им сознанием массовым3.
Именно в соответствии с этими планами по возвращении из Праги в Москву автор определился на работу в Институт философии АН СССР, где в отделе конкретных социологических исследований вскоре возглавил созданный специально "под него" сектор изучения общественного мнения и эффективности идеологической работы. В соответствии с ними же произошли и все те изменения в ИОМ "КП", о которых шла речь выше. Было ведь совершенно очевидно, что силами одного академического учреждения, к тому же в принципе не ориентированного на проведение эмпирических исследований и, естественно, не располагавшего для этого никакими финансовыми средствами, решить поставленную задачу было абсолютно невозможно. Создание же тандема ИФАН-ИОМ "КП" как раз обещало такое решение. Этот шаг вообще казался тогда огромной творческой удачей и сулил блистательные перспективы во многих направлениях. Тут выигрывали все: и наука, обретавшая необходимую эмпирическую базу для разработки теорий массового сознания и общественного мнения; и СМИ, получавшие новые возможности для развития так называемой понимающей (аналитической) журналистики; и, само собой, общество в целом, запускавшее в ход мощное средство формирования "пятой власти" - института общественности, обеспечивающего эффективное участие масс в управлении государством.
Как и ожидалось, успех объявился незамедлительно. Уже первый проведенный на новой основе опрос ("Комсомольцы о комсомоле", март-апрель 1966 г.) показал, что в содержательном отношении тандем сработал на редкость эффективно, обеспечив высокое качество работ на всех этапах исследования, начиная с формулирования задач и подготовки полевого документа и кончая обработкой и анализом полученной информации. В общем и целом ему не уступало в этом плане и большинство остальных, последовавших за ним опросов. В результате, можно считать, было доказано, что с принципиальной точки зрения, т. е. по уровню профессионализма кадров, по качеству методологии и техники проведения полевых работ и т. д., обновленная Служба изучения общественного мнения была вполне готова к самой серьезной работе по производству научно выверенной социологической информации или, иначе, что такого рода деятельность была ей вполне по плечу. И все же в конце 1967 г., по совместному согласному решению редколлегии газеты и руководства комсомола, ИОМ "КП" прекратил свое существование и многообещающий тандем распался.
Как и почему это случилось? С формальной (официальной) точки зрения главная причина летального исхода заключалась в том, что, преуспев по части науки, тандем ИФ АН-ИОМ "КП" обнаружил полную несостоятельность по части журналистского освещения хода и результатов проводившихся опросов. Возникшее уже на первом этапе деятельности ИОМ "КП" отчетливо выраженное творческое напряжение в отношениях между "газетчиками" и "социологами" (разрешавшееся тогда чаще в пользу первых) получило теперь дальнейшее развитие, и поскольку в проигрыше на этот раз сплошь и рядом оказывалась уже не наука, а журналистика, примириться с этим руководители "КП", естественно, никак не могли. На состоявшемся 9 января 1967 г. заседании редколлегии газеты они дружно признали работу ИОМа за 1966 г. неудовлетворительной и при этом усмотрели главный корень неуспеха "газетчиков" исключительно в злонамеренных действиях "социологов". Тезис о пренебрежении последних к интересам газеты звучал на редколлегии громче иных и в самых разных вариациях.
Нет спору, критика деятельности ИОМ "КП" за низкий кпд по части производства собственно газетной продукции имела под собой более чем веские основания: отдел-кентавр в этой своей половине в самом деле не оправдал возлагавшихся на него надежд и не сумел достойно удовлетворить потребности газеты. Публикаций вообще было очень мало (к примеру, связанных с опросом о комсомоле лишь три, с опросом "Читатель о себе и о газете" - одна, а с опросами о детской преступности, Гимне, выборности на производстве и ходе экономической реформы - и вовсе ни одной1), а те, что и были, в большинстве своем даже отдаленно не напоминали ярких материалов начала 60-х, вызывавших огромный резонанс у публики и составлявших вящую славу тогдашней "КП".
Однако корень зла таился гут вовсе не в "социологах", которых если и можно было в чем-то упрекнуть, то лишь в том, что ряд выбранных ими заказных исследований (детская преступность, Гимн) по условиям договоров с клиентами исключал какие-либо публикации на страницах "КП". Во всех же остальных случаях они производили огромное количество полностью открытой для использования информации. В этом смысле "газетчикам", как говорится, давались все карты в руки, они могли действовать абсолютно свободно. Но, как выяснилось, могли-то могли, да не очень. Не сумели! И рассмотрение этого факта позволяет перевести весь разговор в совершенно иную содержательную плоскость, а именно перейти от формальных причин закрытия ИОМа к действительным причинам случившегося.
Конечно, тут снова проще всего было бы говорить о чьей-то "вине" - и на этот раз, понятное дело, уже журналистов, коль скоро в редакции в самом деле не нашлось никого, кто сумел бы серьезно ("по-научному") и одновременно завлекательно ("по-газетному") препарировать имевшийся в изобилии социологический материал или вообще захотел бы связываться с этим нелегким и неблагодарным делом. Однако суть проблемы была вовсе не в этом! Главное - большая часть произведенной ИОМ "КП" в конце 60-х гг. информации оказалась на поверку явно "непубликабельной", поскольку она либо работала на антипропаганду, выявляя не столько успехи советского общества, сколько его неудачи и хронические болезни, либо предлагала такие решения проблем, которые, плохо совмещаясь или вовсе не совмещаясь с господствовавшей в обществе идеологией, несли в себе прямую угрозу последней. Первое из этих обстоятельств ярко проявилось в опросе о комсомоле, второе - в опросе о выборности на производстве.
Называя вещи своими именами, нельзя не признать, что с исследованием "Комсомольцы о комсомоле" случился форменный скандал. Оно проводилось в рамках подготовки к XV съезду ВЛКСМ и в соответствии с намерениями руководителей комсомола (равно как и газеты) должно было увенчаться "фанфарными" результатами. Однако этого не произошло. Зафиксированное на основе всесоюзного репрезентативного опроса комсомольцев объективное положение вещей в молодежной коммунистической организации кардинально не совпало с тем, что требовалось для "рапорта об успехах". В результате написанная автором для Секретариата ЦК ВЛКСМ первая краткая (8-страничная) версия итогов исследования была встречена в штыки в качестве "очерняющей действительность". И, ясное дело, после этого редакция уже не захотела рисковать и сначала отказалась от введения в газете планировавшейся рубрики "Колонка социолога" (которую предполагалось открыть как раз материалами опроса "Комсомольцы о комсомоле"), а затем завернула не только итоговый, но и несколько других подготовленных по этому сюжету материалов, ограничившись, в качестве публикаций к съезду, лишь двумя убогими подборками с ответами на анкету1.
Не меньшими неприятностями обернулся для газеты и опрос о выборности на производстве, где редакции пришлось виниться сразу перед несколькими отделами ЦК КПСС. Высокое начальство со Старой площади выразило изрядное недовольство уже по поводу публикации самой статьи "Кому быть прорабом?", в которой рассказывалось о первом в стране опыте производственной демократии - выборах руководителя низшего звена в одном из СУ Красноярска2. Когда же на основании этой статьи ИОМ "КП" провел всесоюзную дискуссию среди разных групп населения и выявил при этом факт активнейшей поддержки народом идеи выборности руководства как таковой (не ограниченной лишь управленцами низшего звена), это недовольство приняло поистине угрожающие размеры. В результате ни о каких публикациях по этому поводу, конечно же, не могло быть и речи (хотя, заметим в скобках, главный скандал с опросом разразился много позже, уже после закрытия ИОМа3).
Словом, при более пристальном взгляде на вещи становилось ясным, что возникшая непубликабельность результатов опросов была связана, с одной стороны, с отмеченным выше "посерьезнением" производимой ИОМ "КП" информации, а с другой - с начавшимися в общественно-политической жизни страны изменениями, медленным, но верным отходом общества от моделей поведения, демонстрировавшихся в период оттепели. И это означало, что проблема низкой эффективности деятельности Института общественного мнения с точки зрения удовлетворения интересов газеты имела под собой гораздо более глубокие основания, нежели прежнее, простое и естественное несовпадение целей науки и журналистики.
Теперь речь шла уже о гораздо большем - о драматическом напряжении между наукой и властью, базировавшемся на неприкрытой незаинтересованности органов управления в производстве объективного социального знания и выражавшемся в их более чем настороженном отношении к любой мало-мальски серьезной информации, которая добывалась в рамках научной (а не чисто сервилистской, холуйской) социологии. Разоблачавшая многочисленные мифы о коренных преимуществах социалистического общества и, сверх того (это nota bene!), постоянно ставившая власть перед необходимостью совершения каких-то действий, принятия каких-то решений, такая социология была одновременно и опасна, и неудобна и потому уже с первых дней своего рождения, мягко говоря, не пользовалась особым расположением со стороны власть имущих. Вместе с тем, если в эпоху Хрущева, особенно на волне широко распространившейся моды на эмпирические исследования, недоверие всех мастей и уровней партийных лидеров к социологии считалось неприличным и плохо увязывалось с расхожей официальной фразеологией о борьбе партии с догматизмом и начетничеством, то теперь ситуация если и не полностью изменилась, то, во всяком случае, начала существенно меняться. Правда, усиливавшаяся ото дня ко дню идеологическая цензура не имела тотального характера, действовала селективно, в зависимости в том числе от множества разного рода субъективных факторов. Правда, советские танки еще не вошли на улицы Праги и до начала массированной охоты на социологических "ведьм" - открытого похода на научную социологию и ее фактического разгрома - оставалась еще пара лет. И все же период жизни страны, вошедший в ее историю под печальным именем ЭПОХИ ЗАСТОЯ, уже начался и соответствующие ему характеристики советского общества вовсю набирали свою силу.
В этой ситуации вставший на путь науки и практически отказавшийся от пропагандистской активности ИОМ "КП" был, конечно же, обречен. Обречен, что называется, по определению: ведь он почти на четверть века опережал российскую историю1 и в силу этого объективно не имел никаких шансов на длительную жизнь. Какое-то время он мог еще, пожалуй, и протянуть, используй главный редактор газеты в противовес негативным настроениям руководителей ЦК ВЛКСМ то обстоятельство, что авторитет Института был признан даже ЦК КПСС, поручившим ему провести всесоюзный опрос об отношении народа к словам и музыке гимна СССР. Однако к тому времени Б.Д. Панкин - не в упрек ему будет сказано - уже утратил личный интерес к ИОМ "КП", понимая, что нареканий за деятельность Института может быть намного больше, чем похвал, и потому в декабре 1967 г. сдал его без боя.
Само по себе в высшей степени печальное, это событие оказалось еще более огорчительным, когда выяснилось, что немалая часть произведенной ИОМ "КП" в рассматриваемую эпоху информации была безвозвратно утрачена для истории. Это случилось по ряду причин2, но главная из них заключалась в том, что редакция газеты, напуганная специфическим интересом КГБ к материалам некоторых опросов, опрометчиво уничтожила большую часть архива Института, содержавшего первичную (полевую) информацию. Эта акция затронула, в частности, такие исследования, как "Читатель о себе и о газете", "Население и экономическая реформа", "Пять вопросов папам и мамам". Аналогичная угроза нависла и над данными, касавшимися злополучного опроса о комсомоле, особенно после того, как "КП" отказала академической части тандема в просьбе предоставить ей для анализа копии готовых итоговых таблиц.
Тем не менее, несмотря на все эти и многие иные сложности и, как говорится, всеми правдами и неправдами, основную и, пожалуй, наиболее ценную часть (в основном вторичной) информации, произведенной ИОМ "КП" в 1966-1967 г., социологам-"академикам" все же удалось заполучить1. Именно о ней (исследования 4, 6, 7, 10-12) и пойдет речь в первых пяти главах данного тома, а также (исследования 2, 9 и 14) в трех относящихся к его первому разделу приложениях2.
Медленный взлет и стремительное падение Центра изучения общественного мнения ИКСИ АН СССР
Две следующие главы тома (6-я и 7-я), заключенные в раздел II, представляют основные результаты деятельности второй в истории страны службы изучения общественного мнения, которая была создана в конце 1969 г. в стенах за год до того возникшего Института конкретных социальных исследований АН СССР. В соответствии с общей программой формирования ИКСИ, подготовленной группой социологов из Института философии АН СССР3 и утвержденной постановлением Секретариата ЦК КПСС "Об основных направлениях работы Института конкретных социальных исследований АН СССР" от 10 декабря 1968 г. , одним из приоритетных направлений в работе Института объявлялось "изучение общественного мнения по важнейшим вопросам внутренней и внешней политики Советского государства". При этом предполагалось, что данное направление будет реализовываться двумя структурными подразделениями ИКСИ: во-первых, исследовательским отделом генерального проекта "Общественное мнение" (ПОМом)1 и, во-вторых, некой службой оперативных опросов населения типа тех, что давным-давно уже существовали во всем цивилизованном мире и предтечей которой был закрытый в 1967 г. Институт общественного мнения "Комсомольской правды". Тесно связанные друг с другом по предмету изучения и действовавшие под началом одного человека - автора этих строк, названные подразделения должны были решать принципиально разные задачи: первое - осуществить (в определенных локальных и временных границах) заданный комплекс фундаментальных теоретических исследований, позволявших раскрыть механизмы формирования и функционирования массового сознания в условиях "развитого социализма"; второе - проводить с той или иной регулярностью (на протяжении в принципе не ограниченного времени) прагматически ориентированные и самые разнообразные по проблематике опросы общественного мнения в масштабах страны в целом, а также отдельных регионов и слоев населения.
Однако если судьба ПОМа в общем и целом сложилась, скорее, благополучно и лишь на заключительной стадии работ обернулась сплошными сложностями и неприятностями, то с проведением оперативных зондажей общественного мнения Институту не повезло с самого начала. Несмотря на активность автора, многократно составлявшего записки-предложения о создании в ИКСИ соответствующей службы2, и вопреки намерениям горячего приверженца этой идеи - вице-президента АН СССР, основателя и первого директора ИКСИ академика A.M. Румянцева, настойчиво добивавшегося дополнительных ставок для решения этого вопроса равно как в Президиуме АН СССР, так и в Секретариате ЦК КПСС, дело месяц за месяцем не двигалось с места. Лишь в конце 1969 г., явно потеряв всякое терпение и в очередной раз рискуя своим положением3, A.M. Румянцев, в сущности, единолично (волею директора ИКСИ и одновременно вице-президента Академии) объявил о создании в структуре Института нового подразделения, названного Центром изучения общественного мнения (ЦИОМ).
На первых порах это была небольшая (всего 8 человек) "рабочая группа", сформированная преимущественно из сотрудников отдела ПОМ, но отчасти и за счет дополнительно выделенных дирекцией ИКСИ ставок. Возглавленная автором и В.Я. Нейгольдбергом (в должности заместителя руководителя Центра), эта группа - на основе критического изучения деятельности аналогичных зарубежных служб (прежде всего Института Гэллапа в США и Французского института общественного мнения и рынка), а также хоть и несчастливого, но плодотворного опыта сотрудничества ИФ АН с ИОМ "КП" - должна была разработать детальные предложения относительно тематики будущих опросов, структуры и штатного расписания Центра, принципов организации его деятельности, источников финансирования исследований, а также образцы математически выверенных выборок, адекватно представлявших население СССР.
Приступив к выполнению возложенных на нее обязанностей, названная группа начала с того, что подготовила Информационное письмо об открытии ЦИОМа и в феврале 1970 г. разослала его чуть более чем ста центральным государственным и общественным учреждениям и организациям страны: министерствам, ведомствам, научным институтам, творческим союзам, редакциям газет и др. В письме содержались, с одной стороны, предложение услуг Центра по изучению мнений и потребностей населения в границах различных сфер жизни общества, а с другой -просьба к адресатам сообщить о наличии у них интереса к сотрудничеству с Центром и назвать конкретные проблемы (темы), а также сроки и масштабы проведения возможных исследований, с указанием своей готовности либо неготовности оплатить их. В общем-то весьма незамысловатая эта акция оказалась, против ожиданий, в высшей степени эффективной: на послание ЦИОМа позитивно ответили ни много ни мало, а 42 адресата, подавших в общей сложности 102 заявки с готовностью оплатить половину из них1. И этот результат не только ярко доказывал наличие в обществе острой потребности в изучении общественного мнения, но и обнаружил принципиальную разрешимость этой задачи с точки зрения ее финансового обеспечения.
Затем, не откладывая дела в долгий ящик, а именно уже в марте-апреле того же 1970 г., "рабочая группа" в сугубо пропагандистских, чтобы не сказать рекламных, целях по собственной инициативе провела два локальных опроса для отдела пропаганды ЦК КПСС. Один из них был посвящен отношению руководящих кадров г. Алма-Аты к партийной учебе (с объемом выборки в 565 чел.), а другой - оценке жителями г. Мичуринска Тамбовской области меры гласности в работе местных органов управления (с п = 630). Принимая во внимание, что эта работа (при всей бюджетной скудости ИКСИ) была выполнена на средства Института, ее вполне можно было рассматривать как определенную инвестицию в будущее процветание ЦИОМа. И все вроде бы обошлось вполне удачно: оба опроса получили положительную оценку Агитпропа, при этом результаты первого фигурировали (при принятии соответствующего решения) на заседании Секретариата ЦК КПСС, а результаты второго легли в основу ряда документов об эффективности идеологической работы, подготовленных после этого отделом пропаганды ЦК. Однако на самом деле эти шаги оказались не очень-то плодотворными, поскольку, как выяснилось, в коридорах ЦК КПСС в те времена расчет на успех следовало связывать вовсе не с собственно пропагандистами (которые, так сказать, "морально" активно поддерживали социологов, но не имели возможности "помочь им материально"), а с людьми из отдела науки, которые относились к социологии, напротив, с большим подозрением и полностью определяли ее судьбу на уровне штатных расписаний и бюджетных ассигнований.
Наконец, ближе к осени 1970 г. "рабочая группа" завершила еще одно чрезвычайно важное дело - подготовила две всесоюзные репрезентативные модели населения с объемом выборок в 6000 и 2000 человек. Рассчитанные блистательным социологом от математики СВ. Чесноко-вым, эти модели обещали весьма высокую точность отражения объективного положения вещей. При этом особенно привлекательной и дешевой была, конечно же, вторая выборка. Построенная на базе пропорциональной двухступенчатой районированной модели населения она определяла на первом этапе - 27 регионов страны и 151 поселение, в том числе 97 городских (четырех типов) и 54 сельских (двух типов), а на втором -2000 респондентов, отбираемых в соответствии с объективной социально-демографической структурой населения страны на пересечении признаков пола (2 значения), возраста (6 значений), образования (6 значений) и социально-профессионального положения (6 значений)1.
В результате для нормального функционирования ЦИОМа оставалось решить "всего лишь" две последние проблемы: 1) получить от Управления кадров Президиума АН СССР необходимые 60-70 штатных единиц, 50 из которых должны были пойти на формирование всесоюзной сети интервьюеров (или корпуса интервьюеров, командируемых на полевые работы из Москвы) и 2) определиться с Финансовым управлением Президиума относительно способов финансирования различных видов работ. Однако тут-то коса и нашла на камень, причем на обоих уровнях принятия решений - как Президиума АН СССР, так и Отдела науки ЦК КПСС. В очередной раз грубо продемонстрировав откровенную незаинтересованность в научно выверенной информации о состоянии умов и душ, мнений и настроений масс, сначала академические, а затем и партийные руководители решительно отказали ЦИОМу не только в штатах и бюджетном финансировании (не выделив Центру ни одной дополнительной ставки и не дав ему ни единого дополнительного рубля!), но и в праве на проведение хоздоговорных исследований, которое могло бы элементарно решить все остававшиеся нерешенными проблемы, поскольку позволяло "привлечь к работе на договорных началах определенное число интервьюеров на местах, а также оплачивать расходы по кодировке и машинной обработке информации, командировкам и т. д."
На практике это означало, что новый академический центр, едва ли не самовольно взявшийся за проведение опросов общественного мнения в СССР - при всем энтузиазме работавших в нем людей (переставших быть временной "рабочей группой" и превратившихся в собственно коллектив ЦИОМа2), - как говорится, по определению, не мог рассчитывать на сколько-нибудь серьезные результаты, а значит, и на широкое общественное признание. Правда, с чисто формальной точки зрения, особенно на первых порах, все выглядело не так уж безнадежно; достаточно сказать, что за первые полтора года своей жизни Центр провел в общей сложности 11 исследований1. Однако по большому счету итоги его работы были, конечно же, весьма скромными и незаметными для публики: всего шесть законченных опросов, причем лишь два из них - полновесных всесоюзных, все же остальные - худосочно-локальные, заключенные в границах отдельных городов, с мизерными выборками в 300-600 чел.; и при этом ни одной публикации о результатах исследований в открытой прессе!
Впрочем, первый и единственный в своем роде всесоюзный опрос, проведенный в феврале-марте 1971 г. с выборкой в 2000 чел., без преувеличения удался на славу. Задуманный в качестве, так сказать, образцово-показательного, он и в самом деле отлично продемонстрировал немалые реальные возможности для проведения опросов общественного мнения в СССР в масштабах всей страны даже в описанных стесненных обстоятельствах, т. е. при отсутствии общенациональной сети интервьюеров и денег на командирование интервьюеров из Москвы.
Добиться этого успеха (при том что основную часть расходов по обработке информации ИКСИ взял на себя) Центр сумел с помощью двух приемов: во-первых, прибегнув к опросу так называемого омнибусного типа (при котором дискуссия должна была идти не по одной, а одновременно по нескольким не связанным друг с другом темам и оплачиваться, так сказать, в складчину, "на паях" всеми участвовавшими в операции клиентами) и, во-вторых, добившись согласия клиентов расплачиваться за исследования не деньгами (которые ЦИОМ не мог легально оприходовать), а бартером, вернее "натурой" - скажем (в самом простом, незамысловатом варианте), путем командирования в "поле" (в качестве интервьюеров) или выделения на камеральные работы в Москве (в качестве приемщиков и кодировщиков первичной информации) энного количества своих работников.
Но дело было не только в успешном решении ресурсных - кадровых и финансовых - проблем. "Образцовость" и "показательность" этого опроса присутствовали во всем. И прежде всего, конечно же, в тщательной проработке его содержания. Отказавшись при комплектовании омнибуса от сколько-нибудь острых политических и идеологических сюжетов, организаторы опроса хотели уверить власть и широкую публику в том, что, сосредоточившись и на "более спокойной" - социальной и маркетинговой - проблематике, Центр сможет приносить огромную пользу обществу. Именно исходя из этой идеи, в состав омнибуса были включены пять чрезвычайно разных по своим содержательным характеристикам "вагонов", представлявших интересы столь же разных по своему типу и месту в жизни общества клиентов. Самый крупный из отобранных для обсуждения сюжетов касался общего имущественного положения советских людей и спроса на товары длительного пользования; он был заказан Научно-исследовательским экономическим институтом Госплана СССР совместно с ВНИИ конъюнктуры спроса Министерства торговли СССР и был представлен в тексте интервью формально двенадцатью (из 55), а фактически 133 содержательными вопросами1. Кроме того, это были также сюжеты, предложенные редакцией газеты "Советский спорт" (девятнадцать вопросов о состоянии и условиях расширения занятий физкультурой и спортом в стране), Всесоюзной фирмой грампластинок "Мелодия" (шестнадцать вопросов, выявлявших потребности населения в грамзаписях разного жанра), Министерством внутренних дел СССР (пять формальных и десять фактических вопросов по поводу причин пьянства и эффективности предпринимаемых государством мер по борьбе с ним) и еще раз ВНИИ конъюнктуры спроса Минторга СССР (три вопроса о характеристиках денежных сбережений населения).
На весьма высоком уровне были выдержаны дизайн и полиграфическое исполнение полевого документа1, а также большинство других составляющих исследования, связанных с его методологией, техникой и организацией, включая тренинг интервьюеров, исполнение собственно полевых работ и последующий почтовый (10%-ный) контроль за качеством этих работ. А в довершение ко всему, дабы элиминировать возможные напряжения в контактах интервьюеров с местными органами управления и респондентами, была предпринята и такая, прямо скажем, нестандартная акция, как широкоформатное уведомление населения о том, что в Советском Союзе, в системе Академии наук СССР, создан ЦИОМ и что он приступает в проведению своего первого всесоюзного зондажа1.
В результате всех этих усилий опрос в целом, как уже было сказано, получился в самом деле весьма удачным, тем более что преодоление его главного минуса - немыслимо растянутой (с 1 февраля по 15 марта) продолжительности полевых работ - казалось делом вполне наживным: смог же четырьмя годами ранее тандем ИФ АН-ИОМ "КП" провести аналогичный по репрезентативности всесоюзный опрос (о гимне СССР), причем при выборке в 3500 человек, всего за шесть дней! А вот закрепить и умножить достигнутый успех ЦИОМу не удалось. В силу действия множества обстоятельств: из-за отсутствия бюджетного и иного финансирования работ, из-за неудачи с созданием всесоюзной сети интервьюеров2, из-за ограниченности сил самих сотрудников Центра3 и многого другого. Но главное, конечно, - из-за принципиального, резкого ухудшения макро- и микроусловий (и в обществе в целом, и в стенах ИКСИ в частности) для такого рода занятий.
С формальной точки зрения, как видно из Приложения 8, несмотря на все отмеченные трудности, ЦИОМ продолжал свою деятельность и после описанного зондажа-омнибуса. Так, летом 1971 г., снова по заказу МВД СССР, он провел еще один (причем чрезвычайно сложный по выборке и контингенту респондентов) всесоюзный опрос по проблемам пьянства1; затем повторил опрос о гласности в работе местных органов управления (на этот раз в Эстонии). И, казалось, в том же духе, мало-помалу вполне можно было бы функционировать и дальше, проводя один-два всесоюзных и два-три локальных зондажа в год. Однако тотальный поход, предпринятый партийными идеологами в конце 60-х гг. против "опасной" социологии, полностью исключил эту возможность. Длившаяся едва ли не целый год разгромная кампания против "Лекций по социологии" Ю.А. Левады2; перманентные суровые разборки "идейно-теоретических ошибок" в работе многих других сотрудников ИКСИ3; наконец, открытый конфликт директора Института с завотделом науки ЦК КПСС4 СП. Трапезниковым в конце концов (весной 1972 г.) вынудили A.M. Румянцева подать в отставку. И когда на его месте появился вывезенный из Свердловска в порядке "спецназа" М.Н. Руткевич - деятель, сразу же получивший в среде московской социологической братии более чем оправданную кличку Бульдозер, - дни не только отдельных (не единиц - десятков!) ученых, но и целых научных подразделений в ИКСИ были сочтены. Одним из первых среди них, причем буквально в одночасье и без каких-либо разъяснений и комментариев, пал ЦИОМ: приказ о прекращении его деятельности и роспуске его коллектива был одним из самых срочных, подписанных новым директором по вступлении в должность.
Что же касается информации, произведенной за его короткую жизнь Центром, то она, к счастью, в основном сохранилась, и в той ее части, которая относится к омнибусу-711, а также к исследованию, проведенному в вытрезвителях, без всякого преувеличения заключает в себе немалую историческую ценность. Читатель легко убедится в этом, обратившись к двум главам раздела II, где речь пойдет о результатах исследований имущественного положения и денежных сбережений советских людей (глава 6), а также двух зондажей по проблеме пьянства (глава 7).
Per angusta ad augusta...2
Наконец, заключительный, третий, раздел книги познакомит читателя с широкой серией исследований, выполненных под руководством автора также в ИКСИ/ИСИ АН СССР3, но уже в рамках упоминавшегося выше генерального проекта "Функционирование общественного мнения в условиях города и деятельность государственных и общественных институтов", более известного под именем Таганрогского, или - в краткой версии - проекта "Общественное мнение" (ПОМ). Самый крупный в истории отечественной, а возможно, и мировой социологии, этот проект включил в себя в конечном счете 76 объединенных единой целью, но вместе с тем относительно самостоятельных исследований, каждое из которых, базируясь на различных методах и техниках полевых работ, завершилось производством разновеликого по объему, но неизменно вполне целостного свода количественных и качественных данных4.
Начатый в 1967 г. по инициативе и выполнявшийся под эгидой (а на финальной стадии и под активной защитой) отдела пропаганды ЦК КПСС в лице руководившего тогда отделом А.Н. Яковлева, замзав-отделом Г.Л. Смирнова и сотрудника группы консультантов отдела -решающей фигуры в обеспечении всех необходимых условий для реализации проекта - Л.А. Оникова, проект "Общественное мнение" на протяжении семи лет своего существования был, что называется, постоянно на виду у всех и заявлял о себе не только многочисленными "идейно-теоретическими" конфликтами с партийными чиновниками из отдела науки ЦК КПСС, а затем и с директором Института, но и внушительными объемами выдаваемой на-гора информации. Достаточно сказать, что на материалах проекта с 1969 по 1979 г. была защищена 21 (!) кандидатская диссертация1, и, любитель статистики, автор подсчитал: количество одних лишь (упоминаемых в авторефератах) предзащитных публикаций диссертантов превысило сотню! А ведь к ним следует прибавить еще многочисленные статьи и рефераты, написанные остепененными сотрудниками ПОМа, не говоря уже о нескольких выпусках широко известных в те годы "47 пятниц, а также главной публикации проекта - первой части его итогового труда - коллективной монографии "Массовая информация в советском промышленном городе"3, в написании которой приняло участие во главе с руководителем проекта большинство основных "перьев" ПОМа: А.А. Возьмитель, В.Д. Воинова, Т.М. Дридзе, А.В. Жаворонков, В.Н. Казанцев, Я.С. Капелюш, Н.Г. Карцева, В.Я. Ней-гольдберг, В.В. Сазонов, Е.Я. Таршис, Л.Н. Федотова, Н.Е. Чернакова.
Нет слов, наличие всей этой обширной литературы и возможность адресовать к ней особо заинтересованного читателя в определенной степени позволяет автору быть более экономным при описании исследований ПОМа, включенных в "Четыре жизни России", нежели это было с продукцией ИОМ "КП" и ЦИОМ ИКСИ АН СССР, издававшейся (в лучшем случае) под грифом "ДСП" или (чаще) не публиковавшейся вовсе и потому заведомо неизвестной даже узкому кругу профессионалов. Однако, с другой стороны, в силу отмеченной выше связанности друг с другом всех таганрогских исследований возникает необходимость специально остановиться на их некоторых общих принципиальных чертах - как для того, чтобы обеспечить лучшее понимание действительного смысла и действительных результатов проделанной работы, так и для того, чтобы исключить неизбежные в противном случае повторы при рассмотрении разного рода частных сюжетов, о которых пойдет речь в главах 8-12.
Первое и самое важное тут, конечно, это характеристики центральных содержательных задач, которые стояли перед проектом и были решены им.
На уровне, так сказать, формального задания, т. е. в представлении насквозь проидеологизированного и сугубо прагматически ориентированного заказчика, эти задачи отчетливо сводились к двум: 1) выявлению путей и средств "повышения эффективности идеологической работы партии и государства, осуществляемой с помощью... печати, радио, телевидения, разнообразных форм устной пропаганды ", и 2) определению условий и форм "расширения и совершенствования механизмов участия трудящихся в управлении социальными процессами в... развитом социалистическом обществе"1. На уровне же исполнения, т. е. коллектива исследователей, избравшего для решения указанных задач пути и средства преимущественно теоретического постижения предмета, оба названных пункта, обретя новое словесное оформление, "перекрывались" иной, гораздо более широкой целью - выявить и комплексно описать существующую в обществе систему "информационных отношений между органами управления и населением", или - в иных терминах - между властью и народом, с учетом всех основных типов осуществляемой при этом обоими контрагентами "информационной деятельности" - производства, распространения (передачи), потребления и использования различных видов массовой информации2.
При введении в названный предмет анализа ряда существенных ограничений - рассмотрении лишь оперативной (а не фундаментальной) массовой информации, преимущественно ее потоков (а не полей)3 и, наконец, лишь ее открытых, публичных (а не распространявшихся по неким специальным каналам) форм - проект "Общественное мнение" в конечном счете имел дело с расчленением предмета, представленным на схеме 1 в Приложении 11. И на ней можно видеть, что первая из сформулированных заказчиком задач проекта решалась на базе анализа блоков 1-3 (с преимущественным вниманием к блоку 3), а вторая - на базе анализа блоков 4-6 (с преимущественным вниманием к блоку 6). При этом схемы 2 и 3 в том же приложении, конкретизируя исходную (базовую), дают достаточно полное представление о всех фигурировавших в анализе элементах (объектах) изучаемой системы, начиная с относившихся к разным уровням партийно-государственной иерархии органов управления, а также использовавшихся этими органами для формирования сознания масс средств массовой информации (СМИ) и массовой устной пропаганды (СМУП) и кончая весьма разнообразными каналами, с помощью которых население само передавало органам власти ту или иную информацию, в том числе совпадающую со спонтанно выражаемым общественным мнением.
Кроме того, занятый в те годы разработкой основ теории массового сознания, руководитель проекта ставил перед исследованием еще одну задачу - на обещавшем быть гигантским по объему эмпирическом материале доказать факт существования в тогдашнем советском обществе этого типа общественного сознания и по возможности продвинуться в понимании его социальной природы, механизмов его формирования и функционирования, а также его роли в жизни общества. Эта сторона предприятия оценивалась в проекте не иначе как в терминах сверхзадачи, причем в обоих принятых смыслах слова "сверх" - и в том, что в данном случае речь шла о некотором непосредственно не предусмотренном заказчиком дополнительном интересе ("сверх" в значении "помимо", "кроме" чего-то), и в том, что этот интерес захватывал более фундаментальный, более глубокий пласт действительности, нежели обозначенный в заказе, и потому был способен обогатить выполнение собственно заказа ("сверх" как нечто "первостепенное", "особенно важное").
Именно в этом своем последнем качестве данная цель была подробным образом прописана в окончательной версии программы проекта, утвержденной отделом пропаганды ЦК КПСС в начале 1969 г.1 И, подобно другой стратегической цели - связанной с анализом участия "народа" "во власти", - она была с немалым успехом в проекте достигнута. Вместе с тем ближайшая судьба полученной на этот счет информации и тем более относившихся к ней обобщений и выводов оказалась кардинально иной, нежели судьба информации, касавшейся проблем "эффективности идеологической работы партии" и - даже! - проблем "участия трудящихся в управлении социальными процессами". Если сюжеты с "эффективностью" были представлены в итоговых материалах исследования самым что ни на есть широким образом (составив в том числе основное содержание монографии "Массовая информация..."), а сюжеты с "участием масс в управлении" хоть и не проникли в открытую печать, но все же активно присутствовали в материалах для служебного пользования1, то вся обширная проблематика, связанная с собственно массовым сознанием, оказалась не только невостребованной, но практически полностью табуированной и, за малыми исключениями, по идеологическим (а не в узком смысле слова цензурным!) соображениям вовсе выпала из итоговых текстов проекта.
Сегодня, треть века спустя после описываемых событий и во времена, когда словосочетание "массовое сознание" встречается на каждом шагу, являясь настоящей притчей во языцех, относительно молодому читателю, по-видимому, трудно поверить в возможность существования подобной ситуации. Однако в 60-70 гг. минувшего столетия она была в Советском Союзе именно таковой. Тогда даже само употребление термина "массовое сознание" в науке было чрезвычайно затруднено1, а любое позитивное рассмотрение связанных с этим термином предметов и вовсе невозможно, поскольку оно воспринималось (и активно преследовалось) в качестве лютой ереси. При этом нельзя не согласиться, тревога по этому поводу тогдашних идеологов имела под собой более чем веские основания. Ведь, грубо говоря, признание самого факта существования массового сознания как сознания эксгруппового (надклассового, внеклассового) уже само по себе ставило под сомнение, если вовсе не перечеркивало, по меньшей мере два фундаментальнейших принципа марксизма: во-первых, то, что "в любом классовом обществе господствующими формами общественного сознания неизменно являются разнообразные формы группового и прежде всего классового сознания", и, во-вторых (час от часу не легче!), что это "сознание является (всецело) отражением соответствующего группового (классового) бытия" или, в парафразах, что "бытие (неизменно) первично, а сознание вторично", что "бытие определяет сознание" и т. д. Слабина первого из этих тезисов становилась достаточно очевидной перед историческим фактом возникновения в мире так называемых массовизированных (массовых) обществ, которые оказались густо населенными не только традиционными группами и классами, но и принципиально новыми, негрупповыми типами социальных общностей, именуемых массами, с присущими им особыми же типами внегруппового, внеклассового сознания и поведения. Слабина же второго - в свете обнаружения многочисленных свидетельств того, что массовое поведение людей в указанных (современных, продвинутых) типах обществ определялось не только и, как правило, даже не столько их групповым бытием, сколько как раз их массовым сознанием, в результате чего становилось возможным утверждать, что это сознание в своих взаимоотношениях с бытием как "вторично", так и "первично", или, иначе, что оно не только "отражает" бытие, "определяется" им, но и (в не меньшей мере!) "отражается" в бытии, "определяет" его.
Теперь, после ухода из жизни Г.Л. Смирнова и Л.А. Оникова, в связи с невозможностью прояснить с их помощью истинное положение вещей, трудно сказать, как это вообще случилось, что они утвердили в программе проекта постановку задачи со столь еретической начинкой. То ли просто элементарно не углядели ее в процитированных выше, довольно витиеватых формулировках, к которым прибегнул руководитель ПОМа. То ли недооценили содержавшейся в тексте реальной идеологической угрозы. То ли - что скорее всего - продемонстрировали присущее им лично (вопреки их ролевым функциям) неортодоксальное сознание и определенную гражданскую смелость. Однако как бы там ни было, дело было сделано: с согласия руководящих идеологов КПСС крамольная проблематика массового сознания получила в ПОМе полную легитимность. И возможно, все обошлось бы без особых приключений и дальше, вплоть до завершения итогового отчета, если бы не грубая тактическая ошибка, совершенная руководителем проекта в 1970 г., когда он явно преждевременно (правда, под влиянием некоторых смягчающих вину житейских обстоятельств) решил опубликовать наметки своей концепции массового сознания в открытой печати1 и тем самым подставил себя, равно как и саму концепцию, под огонь публичной, в том числе идеологической и административной, критики.
Поначалу, пока во главе советской социологии находился A.M. Румянцев, все было относительно спокойно. Но с назначением на пост вице-президента АН СССР, то бишь "главного социолога страны", академика П.Н. Федосеева, а на пост его подручного, директора ИКСИ (с 1 мая 1972 г.), - М.Н. Руткевича, ситуация в одночасье круто поменялась. В качестве шеф-редактора главного академического издания -"Вестника Академии наук СССР" первый из них опубликовал в июльском номере журнала за 1972 год написанную в лучших традициях сталинской эпохи зубодробительную статью, в которой автор концепции массового сознания объявлялся ни много ни мало как лже-ученым - человеком, который "просто не понимает, что такое наука и каковы ее элементарные требования'*. Что же касается второго, то он сразу же, а именно уже 27 июля того же года, в пандан этой стартовой акции издал приказ, согласно которому отдел ПОМ (как раз в период, когда все работы в нем вступили в завершающую стадию) был преобразован в сектор, с сокращением числа занятых в проекте сотрудников и аспирантов сначала с 41 до 11, а затем и вовсе до 7. И, как выяснилось, это было лишь началом. В соответствии с установками отдела науки и учебных заведений ЦК КПСС директор-"бульдозер" взял откровенный курс на то, чтобы сорвать выполнение проекта, и объявил ПОМу в целом, и особенно (персонально) его руководителю самую настоящую и непрерывную - скрытую и явную - войну "на поражение"2.
В ходе этой затяжной, длившейся более двух лет баталии дирекция ИСИ и ее подручные проявили поистине незаурядную энергию и изобретательность, начиная с настойчивых, но безрезультатных требований от автора, чтобы он выступил на Ученом совете с покаянием по поводу "ошибочной концепции массового сознания"3, или зловещих угроз привлечь его к... уголовной ответственности за "нецелевое использование финансовых средств" в Таганроге, и кончая также не удавшейся попыткой признать неудовлетворительным итоговый отчет по проекту на заседании дирекции 24 июня 1974 г.4
Ясно, что в описанных условиях и особенно в ситуации, когда ИСИ формально "подчинялся" не отделу пропаганды, а отделу науки ЦК КПСС, притом что СП. Трапезников занимал в партийной иерархии гораздо более высокое положение, нежели Г.Л. Смирнов, возможности последнего, даже помноженные на немалые дипломатические таланты и гражданское мужество Л.А. Оникова, оказались все же весьма ограниченными. Их, слава богу, в целом хватило для самого главного - для того, чтобы довести до конца (вторичной обработки) весь корпус входивших в проект исследований и сохранить эту информацию для потомков1. Или - пару раз - для того, чтобы предотвратить очередную расправу директора ИСИ над нелояльными по отношению к нему сотрудниками сектора "Общественное мнение" в случаях их преследований по линии партбюро или организации разного рода помех в защите диссертаций. Но, увы, этих возможностей было явно недостаточно, чтобы издать без серьезных потерь весь комплекс заслуживавших публикации материалов.
Стоит ли говорить, что последнее обстоятельство было особенно тягостным, поскольку возникавшие в данном случае цензурные и иные ограничения относились не только к отдельным изданиям (к примеру, к тем же "47 пятницам"), но и к концептуальному содержанию публиковавшейся продукции в целом, а наиболее пострадавшей тут - после скандала с "Вестником Академии наук" - оказалась как раз вся проблематика массового сознания. В первоначальной версии монографии "Массовая информация...", которая была сдана в Политиздат 9 ноября 1976 г. объемом в 30 печ. л., эта проблематика, в полном соответствии с программой проекта, занимала, естественно, весьма солидное место.
Однако философская редакция издательства (несмотря на то что одним из титульных редакторов монографии выступал - казалось бы, чего уж больше! - ответственный работник отдела пропаганды ЦК КПСС Л.А. Оников) забила по этому поводу самую настоящую тревогу и встала на путь более чем придирчивого и потому архидлительного - занявшего целых четыре года! - редактирования рукописи1.
Сдававший свои позиции с огромным сопротивлением, многократно привлекавший к своим тяжбам с редакцией представителей заказчика и даже добившийся замены первого, "сверхбдительного", издательского редактора, руководитель ПОМа все же, понятно, не сумел сохранить в окончательной версии книги многих и многих страниц, посвященных анализу собственно массового сознания2. Зато теперь, в настоящем издании, когда, что называется, пробил час, это историческое упущение, конечно же, должно быть по возможности устранено. Ведь где как не в "Очерках массового сознания россиян" уместней всего рассказать о полученных в Таганроге на этот счет результатах. И потому-то именно этим, равно как и не публиковавшимся ранее итогам ПОМа, касающимся практически нулевой роли общественного мнения в управлении государством, автор намеревается уделить наибольшее внимание в главах 8-12, когда будет представлять многочисленные исследования проекта.
Кроме того, имея в виду эту презентацию, важно оговорить и ту ее специфику, которая напрямую вытекает из двух весьма существенных технических особенностей ПОМа - разнообразия использовавшихся в нем методов проведения полевых работ и беспрецедентных объемов полученной информации.
Характеризуя в двух словах первую из этих сторон дела, можно сказать, что в данном отношении - в соответствии с требованиями системного подхода к изучаемому предмету (совокупности информационных отношений между органами управления и населением, властью и народом) - в проекте был реализован опыт многомерного, или стереоскопического, анализа избранного предмета. На чисто поверхностном уровне рассмотрения это означало, что фигурировавшие в составе ПОМа 76 исследований реализовывались с помощью множества разнообразных способов сбора эмпирических данных, а именно (без учета разного рода частных модификаций) с помощью методов анкетирования (23 исследования), стандартизованных и полусвободных интервью (16 исследований), контент-анализа разных типов текстов (17 исследований), дневниковых записей, или самофотографий (7 исследований), социолингвистического тестирования (7 исследований), включенного наблюдения (4 исследования) и сбора статистических данных (2 исследования)1. Однако наиболее примечательным в этой общей многокрасочной картине было, конечно же, не столько само это разнообразие использовавшихся техник, сколько их одновременное (параллельное) приложение к одним и тем же объектам изучаемой системы.
Возьмем, к примеру, феномен СМИ в функции источника информации, т. е. каналов передачи информации от органов управления населению. В проекте в целом совокупные характеристики этого объекта выявлялись на пересечении в общей сложности аж двадцати трех исследований2, при этом шесть из них представляли собой анкетные опросы населения и работников местных органов управления (имевшие целью выявить общее отношение респондентов к рассматриваемой функции СМИ, а также измерить - в части населения - некоторые характеристики процесса потребления людьми информации СМИ и процесса проникновения этой информации в массовое сознание); еще шесть - стандартизованные интервью с населением (с теми же целями); одно - двухступенчатое полусвободное интервью с местными журналистами (призванное выявить силу и характер установок на рассматриваемую функцию а) системы СМИ в целом, б) отдельных каналов СМИ и в) персонально самих респондентов); пять - тестирование читателей газет (на предмет определения некоторых глубинных форм контактов людей со СМИ, в частности меры понимания реципиентами языка и общего содержания прессы); и еще пять - контент-анализ материалов центральных, областных и городских газет, радио и телевидения (на предмет измерения их информативной насыщенности в целом, а также элементов их содержания в части некоторых конкретных сюжетов).
Аналогично обстояло дело и с рассмотрением разнообразных (пяти) каналов передачи информации от населения органам управления. К примеру, такой из них, как собрания общественных организаций на предприятиях и в учреждениях города, охватывался в общей сложности двенадцатью исследованиями1. При этом ПОМ тут снова имел дело не с одним-двумя, а с целым комплексом различных методов, освещавших предмет с разных сторон и позволявших измерить его с помощью разных инструментов: в шести случаях это были анкетные опросы всех основных релевантных предмету групп респондентов - руководителей органов управления и населения города в целом, руководителей и рядовых работников отдельных предприятий и учреждений города, участников разных видов собраний2 и ораторов на этих собраниях (эти опросы проводились преимущественно с целью выявления общих оценок людьми собраний в функции выражения общественного мнения); в одном случае - стандартизованное интервью, направленное на измерение действенности собраний, т. е. реализации принятых на собраниях решений; в четырех - контент-анализ различных типов текстов, связанных с проведением собраний (повесток дня собраний, протоколов выступлений ораторов, принятых на собраниях решений, а также всей совокупности названных документов в их сопоставлении друг с другом); и, наконец, еще в одном -включенное наблюдение за изучаемым объектом, т. е. поведением людей в ходе собраний, а также перед их началом и по их окончании.
Легко понять, что описываемый методологический алгоритм не только принципиально повышал валидностъ и надежность производимой информации, но и вызывал эффект стереоскопического изображения предмета, давал принципиально новое знание о нем. Именно поэтому он имел в Таганрогском проекте не частное, а всеобщее значение, т. е. применялся во всех без исключения ситуациях, где речь шла о тех или иных информационных отношениях (связях, потоках) . Вместе с тем полученное таким образом знание явно выходило далеко за пределы предмета занимающих нас теперь "Четырех жизней России". Итоги не двух-трех, а без малого почти 40 исследований, выполненных в ПОМе на ниве изучения процессов формирования и функционирования общественного мнения, использовали качественно иные техники, нежели анкетирование или интервьюирование, и, очевидно, не укладывались в строго очерченные рамки четырехтомника: жизни России в зеркале ОПРОСОВ (именно и только опросов! - Б.Г.) общественного мнения.
Это обстоятельство, само собой, породило сложную дилемму: то ли, сохранив верность букве заголовка "Четырех жизней", пойти на кардинальное (структурное) обеднение презентации результатов ПОМа, то ли, отказавшись от такого пуризма, включить в поле рассмотрения какие-то еще (все? некоторые?) состоявшиеся в проекте "неопросные" формы исследований общественного мнения и тем самым существенно обогатить общую картину зафиксированных сведений о массовом сознании. Стоит ли объяснять, что безусловная и к тому же неординарная ценность многих из этих последних исследований - особенно с учетом отмеченных выше содержательных резекций при издании "Массовой информации..." - однозначно склонила автора к выбору второй половины возникшей альтернативы.
И с этим решением, как говорится, все было бы о'кей, если бы оно не обострило до предела и без того уже чрезвычайно острую другую проблему - связанную с необходимостью более или менее эффективно, не говоря уж адекватно, представить на заведомо резко ограниченной (лишь несколькими главами) книжной площади поистине необъятные итоговые данные.
Косвенным образом о беспрецедентных объемах этих данных говорили уже размеры принятой в ПОМе к обработке первичной (полевой) информации. Однако главными тут с точки зрения процедуры презентации полученных результатов были, конечно же, иные показатели - прежде всего количество конкретных объектов, в границах которых проводились те или иные исследования; затем общие размеры ("длина") наборов категорий и элементов анализа, составлявших содержание этих исследований и, наконец, общее количество различных типов итоговых таблиц, представлявших их результаты.
Имея в виду первый из названных показателей, напомним, что в Таганрогском проекте фигурировали четыре принципиально различных по своей природе класса объектов: 1) "Органы власти" (органы управления, включая СМИП, на уровне занятых в них работников), 2) "Тексты власти" (органы управления на уровне производимых ими текстов), 3) "Население" (жители Таганрога в целом либо их те или иные сегменты) и 4) "Тексты населения" (те же горожане, но уже на уровне производимых ими текстов)1. В условном графическом изображении большинство этих объектов представлено на схемах 2 и 3 в Приложении 11. Строгая же количественная картина их присутствия в ПОМе была следующей: 1-й класс насчитывал в общей сложности 50 объектов (в том числе 4 - на уровне областных /Ростов-на-Дону/ органов управления, 12 - на уровне Таганрога, 7 - на уровне административных районов города и 27 - на уровне отдельных /двенадцати/ предприятий и учреждений города); 3-й -64 объекта (в том числе население Таганрога в целом и одного из районов города, 6 сегментов населения города и 2 сегмента населения района, 12 коллективов предприятий и учреждений в целом и 42 сегмента этих коллективов); а 2-й и 4-й классы (совместно) - по одним подсчетам, 161, а по другим, более корректным, аж 255 различных объектов2.
Естественно, еще более впечатляющей по своему разнообразию была совокупность содержательных характеристик изучавшихся объектов. Достаточно сказать, что входившие в ПОМ 76 исследований реа-лизовывались в "поле" с помощью 85 полевых документов, общий объем которых равнялся 58,7 печатного листа, т. е. примерно 950 (!) типографских страниц. Взятые в целом, они содержали в себе в общей сложности 3494 позиции анализа (т. е. вопросов анкет и интервью, элементов наблюдений и автофотографий, категорий и элементов контент-анализа текстов и т. д.), в том числе 2325 закрытых, 386 полузакрытых и 783 открытых. Притом из всей этой общей массы позиций 686 и 273 фиксировали соответственно признаки населения и органов управления (вернее, работников этих органов), связанные непосредственно с их информационной деятельностью; 624 и 326 позиций - признаки тех же агентов, связанные с их отношением к тем или иным информационным сюжетам -разного рода информации, каналам ее распространения, собственной и чужой информационной деятельности и т. д.; и 327 - характеристики самой обращавшейся в обществе информации. Кроме того, 486 пунктов анализа были связаны с изучением информированности населения и состояний общественного мнения по поводу проблем и событий, имевших неинформационную природу; примерно 600 признаков описывали разного рода "объективные" свойства изучаемых объектов (респондентов, каналов информации, органов управления, предприятий и учреждений и т. д.) и еще 182 помогали решать разнообразные технические задачи, не имевшие никакого отношения к непосредственному предмету изучения, диктовавшиеся большей частью требованиями организации, методики исследований и т. д.
И наконец, совсем уже беспрецедентными по своему объему оказались итоговые количественные результаты ПОМа, особенно те, что составили корпус так называемых базовых таблиц, представлявших автономные итоги всех проведенных исследований. В общей сложности их насчитывалось аж 4700, и размещались они в 58 альбомах на площади в 6466 машинописных страниц. А ведь помимо них существовало еще великое множество разного рода производных результатов, которые по необходимости возникали в процессе итоговых аналитических работ, включая написание диссертаций. Сошлемся тут хотя бы на солидный массив в 437 интегральных (обобщавших данные одновременно нескольких исследований) таблиц, которые были подготовлены в ПОМе в качестве приложения к упоминавшимся докладным запискам в ЦК КПСС.
В результате, если суммировать все сказанное (а речь, как видим, идет примерно о четырех сотнях рассматривавшихся объектов, трех с половиной тысячах их разнообразных характеристик и более чем пяти тысячах представлявших эти характеристики таблиц), нельзя не увидеть, что в случае с материалами ПОМа автор столкнулся с абсолютно новой, прежде неизвестной ему исследовательской ситуацией - грандиозного переизбытка информации, которую надлежало представить на ограниченном пространстве создаваемого "четверокнижия".
Конечно, в самом простом варианте и тут можно было бы поступить как и прежде, в соответствии со стандартами, примененными по отношению к малообъемной продукции ИОМ "КП" и ЦИОМ ИКСИ, а именно: выбрав из наличной совокупности исследований некоторое их количество, представить каждое из них (в соответствующей главе) в отдельности. Однако, понятно, теперь, т. е. в ситуации, когда перед нами уже не несколько, а семь с половиной десятков (к тому же связанных друг с другом) единиц, остановиться лишь на 5-10 из них означало бы не по-хозяйски обойтись с полученными результатами в целом. Отсюда -непригодность использования уже проторенного пути и необходимость создания некоего нового исследовательского алгоритма, который бы позволял, с одной стороны, произвести кардинальное, резкое сокращение наличного материала, а с другой - гарантировал бы по возможности меньшие потери заключенного в нем содержания.
Главный путь решения этой задачи виделся в том, чтобы перейти от рассмотрения отдельных исследований общественного мнения к их более или менее объемным множествам ("связкам", "пучкам"), имеющим дело с одним и тем же предметом, в том числе при самых разных методах его изучения. Именно таким образом и поступил автор с бесчисленными результатами ПОМа, осуществив указанный трансцензус с помощью трехшаговой аналитической процедуры, первый этап которой сводился к выбору в имеющемся материале нескольких содержательных сюжетов, общих для более или менее пространных рядов исследований; второй - к отбору для каждого сюжета как раз тех или иных конкретных исследований из их общей совокупности, а третий и, пожалуй, самый сложный - к интегрированию, т. е. целостному представлению основных количественных и качественных результатов, полученных в отобранных для презентации исследованиях.
Не касаясь теперь разного рода деталей, скажем, что самые общие итоги этой работы свелись к следующему:
1)будучи ориентированным исключительно на анализ массового сознания, автор выделил в чрезвычайно многотемном материале ПОМа пять широких сюжетов, которые составили содержание соответственно пяти заключительных глав второго тома; это:
- деятельность органов управления (власти) в сфере производства информации для населения (глава 8),
- потребление массами продукции СМИП - средств массовой информации и пропаганды (глава 9).
- производство массами собственной информации и ее передача органам управления (глава 10),
- деятельность органов управления (власти) в сфере потребления информации от населения (глава 11) и
- отношение населения к жизни мира, в том числе внешней политике советского государства (глава 12);
2)сопоставляя далее с этими сюжетами все без исключения (76) исследования проекта "Общественное мнение", автор постарался включить в презентацию (в той или иной форме и с той или иной степенью полноты) максимум из них, оставив за бортом лишь те, которые мало что добавляли к результатам отобранных (как, например, значащиеся в Приложении 9 исследования 2, 36, 39, 46 и некоторые другие), либо были трудно интерпретируемы с интересующей нас точки зрения (ср. исследование 70), либо, наконец, по своему содержанию лежали далеко в стороне от рассматриваемых сюжетов (исследование 45);
3) наконец, представляя в табличной и графической форме основные результаты включенных в книгу исследований, автор пошел по пути использования самых разнообразных форм дизайна, начиная с традиционных матриц с парным распределением ответов, относящихся к одному исследованию, или интегральных таблиц с линейными результатами, относящимися одновременно к нескольким исследованиям, и кончая замысловатыми схемами и графиками, результирующими не только количественные, но и качественные обобщения и выводы.
Ну а теперь - после всего сказанного об обстоятельствах изучения общественного мнения в СССР в эпоху Брежнева, а также об особенностях представления в настоящем издании результатов этой работы - перейдем к самой фактуре тогдашних исследований.
03.04.09 endake
как сказал один очень умный и известный человек ) ...
Когда тело моё на кладбище снесут -
Ваши слёзы и речи меня не спасут.
Подождите, пока я не сделаюсь глиной,
А потом из меня изготовьте сосуд.
02.04.09 Swelelegmese
Да, похоже что в действительности - так оно и есть. P.S. Сайт, кстати, у вас прикольно сверстан
19.03.09 Largythearge
Очень понравилось, даже не ожидала.
04.03.09 Clawscaf
очень занимательно было почитать
Оставьте отзыв о товаре
Рекомендуем